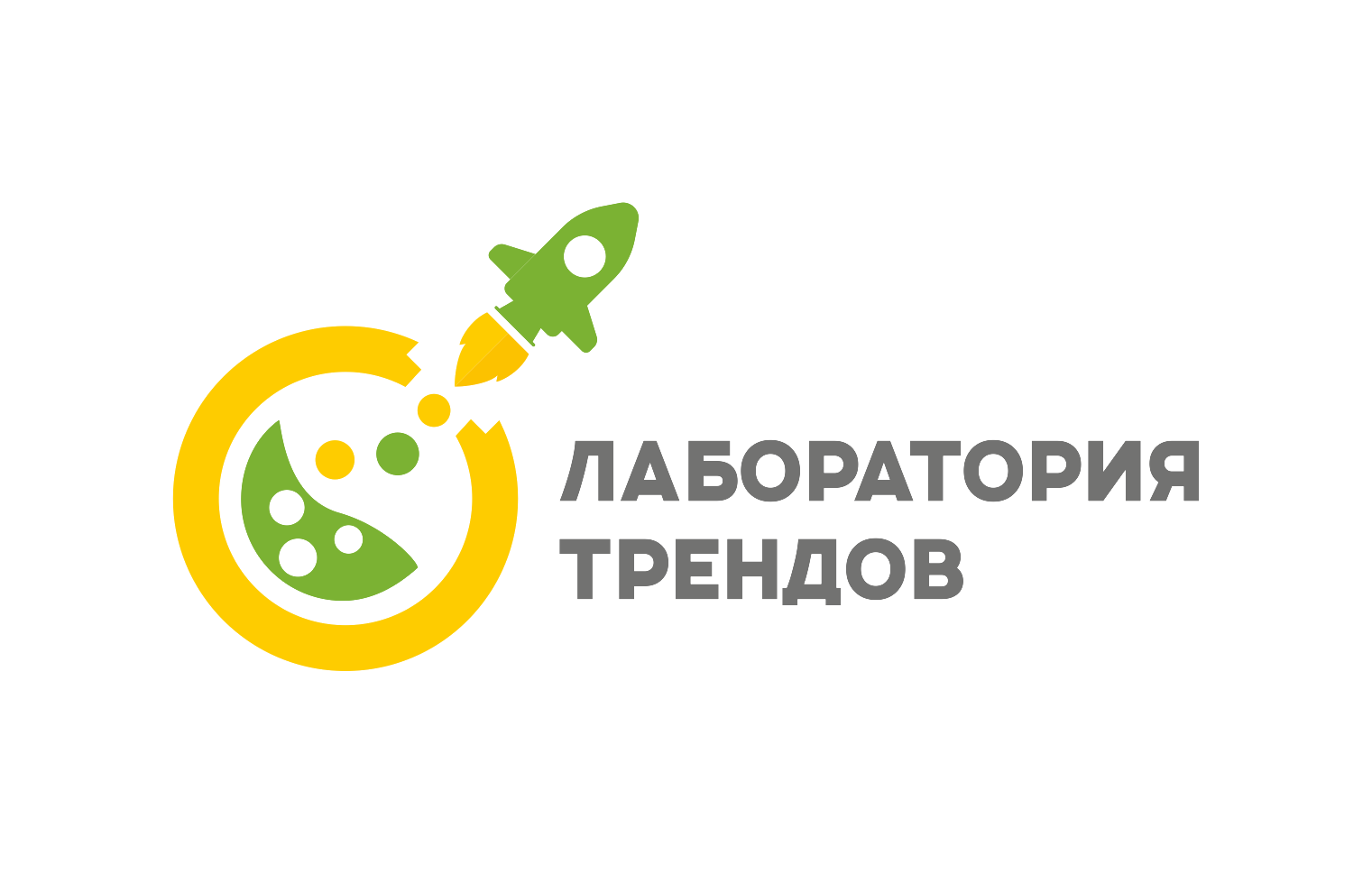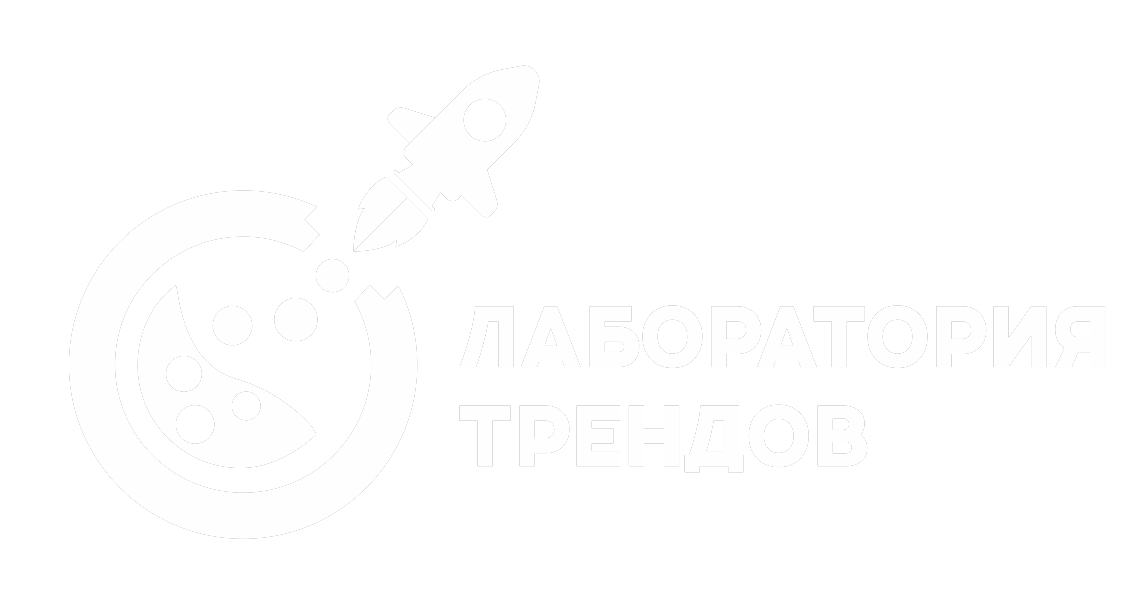Сериал закончился в 2004 году. С момента его окончания с учетом нынешней скорости жизни и динамики внешней среды прошла почти целая вечность.
Это уникальный сериал с двух точек зрения — маркетинга и психологии.
Это тот самый сериал, который в том числе проложил серьезную дорогу кофе формата to go в нашей стране: женщины увидели другую культуру потребления кофе и кофе как часть лайфстайла. В других странах сериал усиливал позиции ведущего кофейного бренда. В нескольких сериях Кэрри Брэдшоу или её подруги были в кофейне или со стаканчиками Starbucks — шикарнейший продакт-плейсмент, который благодаря популярности сериала по всему миру стал еще одной точкой входа бренда в массовое сознание.
Интернет тогда, конечно, развивался, но его проникновение было иным. Для многих женщин сериал стал наглядным пособием по стилю. Это были четыре иконы стиля — каждая со своим архетипом — и это повлияло на восприятие женщинами себя и на попытку найти свой стиль. Кроме того, сериал активно продвигал fashion-бренды, в первую очередь Маноло Бланник — любимый бренд Кэрри, ради которого она была готова на многое (почти на все, и это уже про психологию). Сериал повлиял на культуру отношения к туфлям как к символу и атрибуту, формирующему не только внешний облик, но и внутренние установки.
Это сериал-«лидер мнений». За 20 лет изменилась структура запроса, изменилась психология, изменился контекст. Тогда о позитивной психологии, селф-менеджменте, саморазвитии говорили гораздо меньше. Да потребительское поведение тогда было другим. Поэтому сравнивать «вчера» и «сегодня» через призму сериала очень интересно — изменения яркие и очевидные, почти наглядное пособие для маркетологов и психологов.
Показать современную женщину, живущую в мегаполисе, за 30, уже не девочку, но без навязанной модели «выйти замуж» или «уйти в материнство» — это была мощная социальная трансляция, даже для более продвинутых Европы и США. Женщина, работающая, зарабатывающая сама, переживающая взлеты и падения (в работе, в дружбе, в отношениях) стала моделью идентификации. Особенно для российских женщин, которым сейчас 40+, которые до сих пор воспринимают встречу с подругами за завтраком как частный аналог героинь «Секса в большом городе». Пара раз я слышала и другую метафору — это осовремененные «Девчата» в американском исполнении.
«Отчаянные домохозяйки» были попыткой перехватить влияние, но не получилось. Там женщины замужем, живут в формате «жена-дом». А тут самостоятельные, поэтому влияние «Секса в большом городе» оказалось глубже.
Сейчас сериал воспринимается иначе. Он становится пособием «как не надо». С позиции современной психологии в нем огромное количество красных флагов. В первую очередь — созависимые отношения Кэрри с Мистером Бигом. Примерно так же под лупой уже не первый год психологи рассматривают наши фильмы: Катерину и Гошу из «Москва слезам не верит» и Женю и Надю из «Иронии судьбы». Зарубежные и российские женские модели поведения в отношениях подвергаются серьезной критике — и будем справедливыми, есть за что.
Дальше — отсутствие у Кэрри финансовой ответственности, зацикленность на брендах, попытки произвести впечатление, внутренние противоречия. С точки зрения современной этики и психологии, Кэрри получает условный антиприз. Нет целей. Нет границ. Нет понятного вектора развития. При этом она лидер мнений, колумнистка, публичная фигура. Но внутренняя неустойчивость, метания, зависимость от внешней оценки, импульсивные поступки, двойные стандарты — всё это сейчас считывается как антипример.
Идея, что в 30+ можно продолжать искать себя, — безусловно, нормальна. Но в случае с Кэрри это подано как хаос без опоры. На фоне современных трендов — чётких границ, антисозависимости, ответственности, самоопределения — её образ разъезжается с актуальной повесткой.
Что ещё важно — сериал и героиня как объект инфлюенс-маркетинга. Кэрри Брэдшоу не просто носила бренды, она превращалась в живой каталог. Её выборы, включая финансово неоправданные, стали маркетинговыми инструментами: это один из первых кейсов, когда персонаж транслировал такую сильную эмоциональную связь с брендами (не просто с брендами, а с люксом). Была запущена эпоха инфлюенсеров — когда доверие к героине превращается в доверие к продукту. Это была реклама, но нативная реклама через призму героини и ее жизни до того, как она стала мейнстримом.
Винтаж, который тогда только набирал популярность, — у Кэрри Брэдшоу его было много — сегодня в тренде. Аксессуары, манера одеваться, подборка брендов — всё это тогда формировало запрос, сегодня — воспринимается как модный архив.
И конечно, образ жизни. У нас такой жизни не было. Утренние встречи с подругами, завтрак с кофе в городском кафе, разговоры о себе, а не о муже и детях — для женщин в России это было чем-то невероятным. Это было не про феминизм, а про субъектность. Про женщину как человека со своими желаниями, карьерой, проблемами. Тогда такого не показывали.
Если подводить итоги: изменился контекст. Изменилась экономика. Изменился мир. То, что раньше было прогрессивным, сегодня во многом считывается как токсичное. Но это всё равно важный культурный пласт, важный этап в формировании современной женщины. Просто теперь мы видим прошлое иначе.
Это уникальный сериал с двух точек зрения — маркетинга и психологии.
Это тот самый сериал, который в том числе проложил серьезную дорогу кофе формата to go в нашей стране: женщины увидели другую культуру потребления кофе и кофе как часть лайфстайла. В других странах сериал усиливал позиции ведущего кофейного бренда. В нескольких сериях Кэрри Брэдшоу или её подруги были в кофейне или со стаканчиками Starbucks — шикарнейший продакт-плейсмент, который благодаря популярности сериала по всему миру стал еще одной точкой входа бренда в массовое сознание.
Интернет тогда, конечно, развивался, но его проникновение было иным. Для многих женщин сериал стал наглядным пособием по стилю. Это были четыре иконы стиля — каждая со своим архетипом — и это повлияло на восприятие женщинами себя и на попытку найти свой стиль. Кроме того, сериал активно продвигал fashion-бренды, в первую очередь Маноло Бланник — любимый бренд Кэрри, ради которого она была готова на многое (почти на все, и это уже про психологию). Сериал повлиял на культуру отношения к туфлям как к символу и атрибуту, формирующему не только внешний облик, но и внутренние установки.
Это сериал-«лидер мнений». За 20 лет изменилась структура запроса, изменилась психология, изменился контекст. Тогда о позитивной психологии, селф-менеджменте, саморазвитии говорили гораздо меньше. Да потребительское поведение тогда было другим. Поэтому сравнивать «вчера» и «сегодня» через призму сериала очень интересно — изменения яркие и очевидные, почти наглядное пособие для маркетологов и психологов.
Показать современную женщину, живущую в мегаполисе, за 30, уже не девочку, но без навязанной модели «выйти замуж» или «уйти в материнство» — это была мощная социальная трансляция, даже для более продвинутых Европы и США. Женщина, работающая, зарабатывающая сама, переживающая взлеты и падения (в работе, в дружбе, в отношениях) стала моделью идентификации. Особенно для российских женщин, которым сейчас 40+, которые до сих пор воспринимают встречу с подругами за завтраком как частный аналог героинь «Секса в большом городе». Пара раз я слышала и другую метафору — это осовремененные «Девчата» в американском исполнении.
«Отчаянные домохозяйки» были попыткой перехватить влияние, но не получилось. Там женщины замужем, живут в формате «жена-дом». А тут самостоятельные, поэтому влияние «Секса в большом городе» оказалось глубже.
Сейчас сериал воспринимается иначе. Он становится пособием «как не надо». С позиции современной психологии в нем огромное количество красных флагов. В первую очередь — созависимые отношения Кэрри с Мистером Бигом. Примерно так же под лупой уже не первый год психологи рассматривают наши фильмы: Катерину и Гошу из «Москва слезам не верит» и Женю и Надю из «Иронии судьбы». Зарубежные и российские женские модели поведения в отношениях подвергаются серьезной критике — и будем справедливыми, есть за что.
Дальше — отсутствие у Кэрри финансовой ответственности, зацикленность на брендах, попытки произвести впечатление, внутренние противоречия. С точки зрения современной этики и психологии, Кэрри получает условный антиприз. Нет целей. Нет границ. Нет понятного вектора развития. При этом она лидер мнений, колумнистка, публичная фигура. Но внутренняя неустойчивость, метания, зависимость от внешней оценки, импульсивные поступки, двойные стандарты — всё это сейчас считывается как антипример.
Идея, что в 30+ можно продолжать искать себя, — безусловно, нормальна. Но в случае с Кэрри это подано как хаос без опоры. На фоне современных трендов — чётких границ, антисозависимости, ответственности, самоопределения — её образ разъезжается с актуальной повесткой.
Что ещё важно — сериал и героиня как объект инфлюенс-маркетинга. Кэрри Брэдшоу не просто носила бренды, она превращалась в живой каталог. Её выборы, включая финансово неоправданные, стали маркетинговыми инструментами: это один из первых кейсов, когда персонаж транслировал такую сильную эмоциональную связь с брендами (не просто с брендами, а с люксом). Была запущена эпоха инфлюенсеров — когда доверие к героине превращается в доверие к продукту. Это была реклама, но нативная реклама через призму героини и ее жизни до того, как она стала мейнстримом.
Винтаж, который тогда только набирал популярность, — у Кэрри Брэдшоу его было много — сегодня в тренде. Аксессуары, манера одеваться, подборка брендов — всё это тогда формировало запрос, сегодня — воспринимается как модный архив.
И конечно, образ жизни. У нас такой жизни не было. Утренние встречи с подругами, завтрак с кофе в городском кафе, разговоры о себе, а не о муже и детях — для женщин в России это было чем-то невероятным. Это было не про феминизм, а про субъектность. Про женщину как человека со своими желаниями, карьерой, проблемами. Тогда такого не показывали.
Если подводить итоги: изменился контекст. Изменилась экономика. Изменился мир. То, что раньше было прогрессивным, сегодня во многом считывается как токсичное. Но это всё равно важный культурный пласт, важный этап в формировании современной женщины. Просто теперь мы видим прошлое иначе.